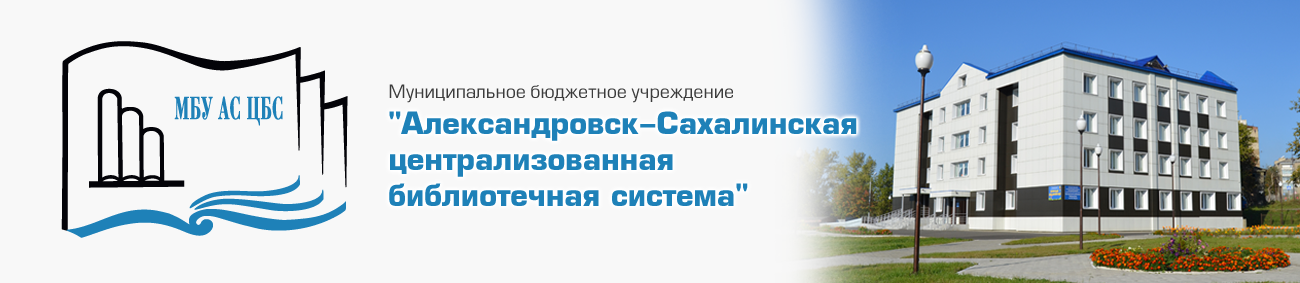В. Борисов Добрый доктор
Выйдя на пенсию в 2000 году, я, недолго сопротивляясь внутренним сомнениям, пришел работать в знакомую мне десятки лет библиотечную семью. Необходимо отметить, что центральная библиотека города (которой, как я выяснил позже, оказалось более 130 лет) все годы своего существования притягивала цвет интеллигенции Александровска, помогала становлению многих ныне известных в области писателей и поэтов, была центром культурной жизни района…
Александровский свежий воздух способствует творчеству земляков. Большинство из них жутко стесняются своих произведений. Но как автору без обратной связи? Почему то дебютанты стали часто ко мне обращаться. Уж и не знаю, какие литературные задатки они разглядели в публикациях краеведа. Но в силу своей новой специальности, да ещё в год литературы, я пытаюсь им помочь некоторыми советами. Для меня уже чудо, что рабочий котельной находит время не только глубоко вникать в наследие великих классиков, но и сам пытается писать по мотивам их произведений. В Чеховские дни я предлагаю, отобранный для сайта рассказ. В целом же судить землякам. Автор очень надеется на их справедливую оценку своего творчества. Итак, знакомьтесь БОРИСОВ Виктор, 46 лет, рабочий ООО «Теплосеть», друг центральной библиотеки им. М.С,Мицуля г. Александровск-Сахалинский:
Между двухэтажным домом начальника острова и церковью, неправильным овалом расположилась небольшая площадь. Тщательно выметенная по случаю торжества. Под аркой, сделанной из ветвей деревьев, и украшенной цветами стояли чиновники из местной администрации. На их фоне медным самоваром выделялась грудь в орденах и медалях. Золотые погоны ослепительно поблёскивали на солнце. Генерал тяжёлым взглядом обводил окружающих. Его раздвоенная борода шевелилась при малейшем дуновении ветра, отчего присутствующим казалось, что генерал сердится. Медальки весело позвякивали от каждого движения своего хозяина. Поднявшийся с моря холодный ветер далеко разносил мелодичный перезвон.
-Господа,- обратился к собравшимся один из чиновников сделав шаг в перед, и театрально подняв руку. Испугавшись, мысли, что он может загородить собой гостя, попятился назад.
— Господа, сегодня в этот радостный для нас день девятнадцатого июля одна тысяча восемьсот девяностого года от рождества Христова. На этот рубеж Российской Империи, на эту исконно православную землю остров Сахалин. Прибыл многоуважаемый всеми нами приамурский генерал – губернатор Андрей Николаевич Корф.
Публика что полукругом обступила зеленую триумфальную арку, зашумела. В первых рядах раздались жидкие аплодисменты. Первые ряды состояли из чинов что еще не дослужились до того чтобы стоять сегодня под аркой. За ними теснились господа в поношенных сюртуках и мундирах. Дамы, по причине противного ветра завязали ленточки под вторыми подбородками. Дальше шла небольшая группа людей из местных крестьян, чья судьба здесь сложилась не так уж и дурно. Вся остальная масса была серого цвета. Цвета арестантских халатов и курток, которые здесь упрямо называют бушлатами. Позади всех стояли два человека в лохмотьях, что остались от этих самых халатах. Только желтые ромбы на их спинах ничуть не пострадали, и выглядели как новые.
-Сказали, всех высекут, кто генеральского «Бобра» разгружал, — сказал один из них другому.
-Это, по какому такому случаю? – вяло отозвался его товарищ.
— По случаю кражи, что случилась на генеральском пароходе, вот!
— Много украли? – все так же безразлично спросил второй.
— Много не много, но двух гусей увели. Его благородие сказали, что с вора шкуру спустят, и в кандальную закроют, года на три, — его раздражало спокойствие товарища.
-Это почему сразу на три? За два тощих, полудохлых гуся на три года? Да с них даже навару не было, – возмутился каторжник. Он не успел получить ответ. Впереди стоящие обернувшись к ним, пригрозили побить болтунов, если те не заткнутся. – Может, манифест, какой привез, а вы горланите здесь, — пояснил один из них. – Ага, для тебя дурень специально, — огрызнулся один из двоих, но, не желая испытывать судьбу замолчал. Они стали прислушиваться, о чем говорят там далеко впереди. Но резкий, порывистый ветер доносил до них лишь отдельные слова. Зажиточный крестьянин преподнёс генерал – губернатору хлеб-соль.
— О! Я его знаю, — закричал один из каторжан. – Он у нас майданщиком был. Вся тюрьма у него в долгах ходила. На поселение вышел с большими деньжищами, мироед. Кому тюрьма, кому мать родная…
К каторжанам тихо подошёл человек в черном, кожаном, на вид тяжёлом плаще. Сложенный зонтик вместо трости. Бородка клинышком делала его худое лицо ещё более вытянутым. При порывах ветра он придерживал шляпу. Было очень плохо слышно о чём говорят под зелёной аркой, а из-за серой массы спин видно и того меньше. От скуки человек в плаще стал разглядывать жёлтые ромбы, пришитые к серому сукну чёрными нитками, широкими стяжками. Задумавшись, он машинально трогал рукой бородку, как бы проверяя на месте ли она. Он вдруг сильно закашлялся, достал белый носовой платок. Каторжанин что призывал к тишине недовольно, через плечо сказал: — Цыц! Но увидев, кто стоит позади него снял шапку.
— Здравия желаю ваше высокоблагородие, извините, не признал.
Услышав такое приветствие, серая масса одновременно повернулась, обнажив головы.
— Барин, проходите вперёд, — предложил арестант, каторжане стали расступаться. Барин прокашлялся, осмотрел платок, махнул рукой, чтобы на него не обращали внимание. Он уже собирался уходить, когда почувствовал что его кто — то осторожно дёргает за рукав. Ветер моментально стих, будто где-то опустили занавес, закончился первый акт.
— Извините барин, я вас зову, зову… Вашескородие, будьте так милостивы, не откажите в просьбе.
Перед барином стоял каторжник в старом, заношенном до дыр арестантском халате. Его давно не чёсаная борода старой паклей торчала строго горизонтально. Кроткие глаза старой, больной собаки не моргали, лишь слегка прищуривались. Правое плечо немного выше левого. В руках он держал фуражку без козырька.
— Что тебе? – спросил барин, едва не добавив, служивый, но вовремя спохватился.
— Мне бы барин прошение написать…
-Прошение? Хорошо. Знаешь, где я остановился? Приходи, напишем твоё прошение.
— Покорнейше благодарю, барин, но зачем куда-то идтить? У меня всё с собой есть, — он снял с плеча котомку, всё из того же серого сукна, и похлопал по ней. – И чернила, и перо, бумага. Всё чин – чином.
— Ну, если всё с собой… — неохотно согласился барин. Он за цепочку достал из кармана жилетки часы. Они расположились недалеко от площади, на скамейки в тени большого, старого тополя. Вдоль улицы лежал новый деревянный тротуар. И если бы не старый тополь, он был бы прямой как струна. Топор пощадил дерево, и тротуар зигзагом обогнул его. Человек в кожаном плаще водрузил на нос пенсне, и задумался, разглядывая поданное ему засаленное перо. С той самой минуты, как с парохода «Байкал» он увидел угрюмые берега Сахалина. Странное, гнетущие чувство не покидало его. Сначала он объяснял это себе утомительной дорогой, скверной пищей в подозрительных трактирах, усталостью… Первая же ночь на острове оказалась бессонной. Ему всё казалось каким – то обречённым, тяжёлым… То вдруг лучом света в темноте мелькала мысль что всё будет хорошо и… И опять это ноющие предчувствие чего – то неизбежного, странного. Было чувство, что он уже был здесь, или будет ещё?
— Как тебя звать братец? – спросил он у каторжанина.
— Ефимка – косой, кличут меня. Да куда же она сугубо провалилась? – Ефим шарил впотьмах своей бездонной сумы.
— Ефим, ты что потерял?
— Да, я, барин чернилу ищу.
Отчаявшись отыскать чернила, Ефим принялся вытаскивать на свет Божий всё! В мешке оказались: ржавые гвозди, аккуратно перевязанные верёвочкой, горсть цветных морских камушков, ракушка. Почесавшись и вздохнув, он достал без начала и конца Псалтырь, старую подкову, корень такого растения как борец. И другие нужные в хозяйстве вещи.
— А борец тебе Ефим зачем?
— Это барин, лекарство от жизни, сугубо, когда ты уже не борец, то на это есть борец! А вот и чернилу нашёл, — он достал пузырёк из-под микстуры. Бумага оказалась самая что ни есть дешёвая, и от неё почему – то несло дёгтям.
— Ну-с, на чьё имя писать? – барин разгладил на колене бумагу. Пишите барин сугубо на самого начальника округа!
— От кого? Как твоя фамилия Ефим?
— Пишите, от поселенца Ваньки Ветрова.
Барин отложил перо…
— Постой, тебя же Ефимом звать!
Ванька Ветров, он же Ефимка – косой, сидевший на краю скамеечке, потупил взор, уставившись в землю перед собой.
— Здесь меня знают сугубо как Ветрова. Так что пишите барин, не сумлевайтесь.
Барину что-то расхотелось писать прошение от Ефима, который Иван. Или наоборот?
— А что Ефим, неужели грамоте не обучен? Вон, смотрю Псалтырь у тебя…
-Ну почему же, читать – читаю, по печатному. Да и пишу, сугубо по печати. Но разве я напишу так складно как вы? Да и барин барина лучше поймёт. А Псалтырь, так, на цигарки.
— Ну, хорошо, — согласился барин, — что будем просить в сём документе?
— Напиши барин, чтоб мне бабу выдали.
— Что тебе выдали? – барин снял пенсне, как будто оно мешало ему расслышать.
-Бабу говорю, для дома, для хозяйства.
Барин присмотрелся к Ефиму. Мужик лет пятидесяти. Лицо, испещрённое оспой, занятная борода. Маленькие глазки, такой разрез глаз ещё называют — свинячим. И постоянно чешется в самых немыслимых местах. Барин щепотью правой руки стал массировать переносицу, где остались две отметины от пенсне. Пенсне, маятником раскачивалось на тонкой тесёмке.
— А что, вашескородие, германцы хороший народ? – спросил Ефим, будто они только о том и говорили.
— Хороший, хороший, тебе-то за чем?
— Да так, — пожал плечами Ефим, — и доктора у них хорошие?
— Да Ефим, или как там тебя звать – величать. Лучшие в Европе.
— Ну, ну, ага лучшие значит? Ну, ну, — Ефим почесался в неприличном месте.
– Послушай Ефим, давай попросим корову? А? А хочешь лошадь?
— Да помилуйте барин, на что мне корова? За ней же ходить надо! А зарежет ее, какой беглый варнак? Да и за неё платить в казну надоть. И лошадь мне сугубо на кой? Если у меня баба будет?
— Послушай Ефим, ты говоришь, у тебя дом есть?
— Ну, — промычал Ефим, не понимая, куда клонит этот странный барин.
— Значит и земля есть?
— Есть, — согласился Ефим, часто заморгав глазами.
— Значит лошадь важнее! Правильно? Землю, матушку пахать. А?
Ефим стал про себя удивляться, какой нынче барин пошёл бестолковый!
-Я, вам барин вот что скажу. Я третий год на поселении сижу, и ещё три осталось. Потом крестьянство получу, и в Россию махну. А в огороде у меня целина, и конь не валялся. Так как я сугубо отродясь на земле не работал. Хоть я и родился в деревни, но ещё мальцом был отдан в город, в люди.
Барин задумался, ища другие аргументы. Просить бабу, по его мнению, было верх глупости! Ефим, как будто догадался, о чём думает барин, сказал: — Да вы не сумлевайтесь, нам поселенцам бабу положено выдать. Для хозяйства. Это добро казне ни чего не стоит. Казне даже лучше, баба с возу – кобыле легче.
— А почему ты Ефим, представился как Ефимка – косой? Глаза у тебя ровные, – спросил барин, оттягивая время, перед тем как взять перо, на котором уже высохли чернила. Всё его интеллигентное нутро бунтовало от того что придётся писать такую ахинею!
— Я, когда-то барин личником был!
— Кем, кем был? — барин одел на тонкий нос пенсне.
— Личником, — вздохнул Ефим, убедившись, что барин попался не ума палата, – лики святых писал, я можно сказать духовного звания! Вот!
— Да ну? – удивился барин, ещё пристальнее рассматривая своего собеседника.
— А за что на като… На Сахалин попал?
— Жинку свою порешил, путалась она, с соседом застал… Пошёл по Руси, взяли за бродяжничество. Представился Иваном, не помнящим родства. Сибирь. Бежал. Был бит. Сахалин, — Ефим сплюнул на песок под ногами.
— Ну, хорошо, лики писал, но почему косой?
Ефим совсем разочаровался в глупом барине, и вместо ответа спросил: — А что устрицы, правда, скусные?
— Устрицы? Да, как тебе Ефим сказать? Считаются вкусными, но мне они знаешь, не нравятся.
— Ещё бы, — согласился каторжник, и как – то странно посмотрел на барина.
Барину вдруг стало не хорошо. То самое дурное предчувствие, предчувствие неизбежной беды которое нахлынуло на него, когда он увидел берега Сахалина с парохода «Байкал», вернулось к нему.
— Ну, что ж, бабу так бабу, — и барин решительно взял перо. – Но у меня к тебе Ефим будет одна просьба.
Ефим не зная, что ожидать от странного барина, весь напрягся.
— Ты никогда, никому, не скажешь, что сей документ, писал я.
Поселенец облегчённо выдохнул. Барин стал медленно, тщательно подбирая слова писать.
-Послушай Ефим, — барин остановил письмо,- а почему Татарский пролив так называется?
Каторжник зачесался, отчаянно сплюнул. «Да, с барином не свезло! Надо было всё-таки к бывшему надзирателю идтить!»
— Татарский, вашескородие, значит – злой, чужой. Это каждый гиляк знает!
— Скажите на милость, как интересно, — барин задумался, размышляя, что бы ещё такого добавить в этом идиотском прошении. Он давно его написал.Но зная по опыту, что такие люди как Ефим, любят, чтобы челобитные были подлинней, помудрёнее, поцветастей. А у него фантазии хватило ровно на две строки. Это явное неуважение к такой персоне как Ефимка – косой, он же Ванька Ветров. Не решаясь отдать Ефиму столь куцее творение, барин спросил его: — А что давно носишь бубновый туз?
— Давненько, — неохотно ответил поселенец, — терпигорцы мы, всю Сибирь сугубо пешком прошли. Не то, что одесские галетники, туристы. Им сначала рай показали, скрось решётку парохода, потом горе посреди моря. А мы рай только там и увидим. Если сподобимся, — он посмотрел на небо. – Нам бы только до смерти до жить. И снесут наши бренные тела на Рачковую заимку.
— А другую бабу, Ефим не порешишь?
— Нет, барин, я уже не тот. Горячности нет, остудил мой пыл Сахалин. Здесь даже горячие горцы остывают. Да, и в Россию мечтаю вернуться.
Барину решительно ни чего больше не приходило на ум. Что ещё можно добавить к тем двум строкам, что он уже написал? Он перечитывал их, и ему как Ефиму хотелось плюнуть на песок.
— А что Ефим насекомых не выведешь?
Каторжник на минуту перестал чесаться.
— Нам, барин, вошь по табелю положена. Что за каторга без неё? Праздник души, да и только.
— Скажи Ефимушка, здесь крыжовник растёт?
— Да что вы барин, окромя картошки здесь не родит ни чего. Земля – то проклята!
Ефим почесал прутиком между лопаток.
— Это, каким же образом проклята?
— Как каким? Самым обыкновенным, сугубо словесным. А вы думаете, мы благословляем остров, когда по трапу спускаемся на него? Под матюги солдат, когда тебя прикладом по спине. Благословляем? Когда не можем вытащить бревно из тайги? Благословляем? Когда за не выполненный урок растянут на «кобылки».
— Да, а я слышал, здесь арбузы в оранжереях выращивают, — неуверенно тихо сказал барин.
— Арбузы? В оранжереях – то? Может и выращивают. Если их нашей кровиночкой поливать, то оно конечно, и вананасы вырастут. Почему бы и нет.
Колокола на церквушке зазвонили на всенощную, значит уже шесть часов. Каторжанин снял свой бесформенный головной убор. Поднял руку ко лбу… Но почему-то передумал, осенить себя крестным знамением. Но, раз уж всё равно поднял руку, то заодно отогнал назойливую муху, и одел фуражку. Барин заметил порыв поселенца.
— А много ли Ефим на Сахалине церквей?
— Да, почитай много, — он почесал себя ниже поясницы.
— Наверно набожный народ?
— Да куды там,- махнул рукой Ефим, — на Сахалине только сектанты, да политические живут духом, а все остальные брюхом. Помню, шли мы по Сибири, так, поди, на каждом привале молитву творили. Да и в дороге псалмы пели… А чем ближе к Сахалину, то тем меньше и меньше на небо смотришь. А смотришь, как бы товарищ твой не украл у тебя чего. А на острове и подавно, чувство такое что Бог от нас отказался. Да, я думаю барин, вы и сами к попам не ходок? В детстве охоту отбили, а?
Над ними низко пролетела чайка. Море совсем рядом. Человек в чёрном кожаном плаще проводил её взглядом. Каторжник остался равнодушен. Ефим продолжил свою мысль: — Здесь тяжело ухо к слову Божьему. Не приживается оно тут. Может жизнь здесь слишком трудная, может климат не подходящий. А может время, ещё не пришло… Я ещё в кандальной был, на Пасху, пришёл к нам в тюрьму батюшка. Живот в два обхвата, рожа лоснится как блин на масленицу. Глазки осоловелые, видать уже хорошо причастился с утра. И спрашивает нас, «что это у вас здесь такая вонь?» А мы третьего дня как из леса вышли. На нас сухой нитки нет. Спим одетые, чтобы такой же православный не стащил у тебя последнюю рубаху. От нас пар валит, а сохнуть, не сохнет ни чего. Мы попу и говорим, мол, батюшка, заступись за нас, порют, спасу нет. А он нам и говорит, «телесные наказание облегчают душу». Ну, мы его и послали, недалеко…Стех пор он свой синий нос в кандальную не показывал. Вот, вы барин сразу видать, шибко грамоте обучены. Объясните мне, почему татары здесь держатся в месте, обреки да оглы всякие друг за дружку стоят. И не тащат друг у друга! А у нас один православный задушил своего единоверца за шестнадцать копеек. Задушил на его же верёвочке от нательного крестика. Неужели мухамедская вера лучше? Здесь на каторге – кобылке, вы не кого не найдёте кто считал бы себя виновным. О своих зарезанных, зарубленных душах рассказывают смеясь. Сожалеют только о том, что попались, что дельце не удалось провернуть.Что напились не вовремя. Чиновники здешние, только и думают на чём ещё деньгу зашибить. Они даже себе домов не строят, живут в казённых. А зачем? Всё одно все здесь временно. А вы барин, извиняюсь, за каким ведомством числитесь, по какому табелю проходите?
— Я, Ефим, сам по себе.
Лицо поселенца выразило глубокое разочарование, почти скорбь. – Это барин нехорошо, это вашескородие совсем нехорошо! Только бродяги нигде не состоят, а все остальные числятся по какому – то ведомству.
Ефим задумался, перестав чесаться. Барин догадался, что сильно пал в глазах поселенца. Ефим стал молча складывать разложенные на скамейки вещи в мешок. Укладывал основательно, не торопясь. Когда очередь дошла до порванного Псалтыря, человек в плаще внимательно следивший за поселенцам спросил: — До чего ты Ефимушка духовную книгу довёл? Божий лик писал, а Псалтырь на цигарки.
Когда речь заходила о святом, Ефим начинал чесаться ещё больше, в самых сокровенных местах.
— Оказалось барин, что я лубочные картинки рисовал. Бог, есть – Дух. Его невозможно нарисовать. Если написано – десница, перст, рамена Его, то это всё только образы, иносказание, для нас глупых. Когда-то я по три дня постился, с женой не спал, чтобы богородицу написать. А оказалось всё это картинки для ярмарки. Это уже здесь мне сектанты объяснили. Да, и Сам Бог запрещает образы творить. А образ как будет по-гречески? Икона! – сам себе ответил Ефим. – А Псалтырь, что Псалтырь, комары вечерами житья не дают. Пока куришь, ещё ничего, перестанешь, заедят! Только Божьим словом и спасаемся.
Барин понял, сколько время не тяни, всё же придётся отдать шедевр русской письменности его хозяину. Прокашлявшись в свой белый платок, он сказал: — Знаешь Ефим, мне много чего довелось написать. Но ничего более как бы это сказать странного, мне писать не доводилось. Поэтому я надеюсь, наш уговор останется в силе. И никто не узнает, что сей манускрипт, писал я.
И с этими словами он протянул бумагу поселенцу. Ефим уставился в бумагу. Две строчки написанные мелким, красивым почерком, ввели его в ступор. Две строчки! За всё это время! Две! Он молча смотрел на них, и казалось, он сейчас заплачет. Борода его мелко затряслась, и казалась ещё длиннее.
— И это всё? – выдохнул Ефим. Барин только молча развёл руками. Каторжник спрятал бумагу в мешок, и полез за пазуху. «Уж, не за ножом ли?» Подумал барин. Почему — то вспомнилось как Ефим, подавляя зевоту, сообщил ему, что он «порешил» свою жену. Поселенец, откуда – то из подмышки достал уменьшенную копию своего заплечного мешка. Всё из того же серого сукна. Развязав его, высыпал на грязную ладонь медные монеты.
— Вот, барин, это вам за труд. Хоть написали вы не густо, однако, время на меня сугубо, потратили не мало. Как написано, трудящийся достоин награды своей.
Барин застегнул плащ на все пуговицы, стало холодать. Посмотрел сквозь пенсне на протянутые монеты. Потёртые, поцарапанные, гнутые медяки.
— Вот бы все так быстро отдавали гонорар. Не нужно мне твоих денег Ефим. Оставь себе, тебе они нужнее.
— Ну, барин, как хотите, воля ваша, — он обиженно ссыпал монеты в мешочек, — я вам вот что скажу, живёте вы больно легко. Знаю, не барская судьба лишения терпеть. Идёте, по жизни скользя. Все барины живут, не видя страданий людских, но вы то видите! Но идёте по жизни прохожим, наблюдателем, но не борцом. Даже семьёй не хотите себя обременять. Добрый вы барин, но доброта ваша какая – то беззубая, безрукая… В этот раз вы добровольно приехали на Сахалин. Приехали хандру развеять. В следующий раз привезут на Сахалин, вас не спрашивая. И хлебнёте вы горя мерой утрясённою, угнетённою.
Барин снял пенсне, на переносице остались две отметины от душки.
— Это что же, Ефим, меня как каторжника привезут? С бубновым тузом на спине?
Ефим забросил мешок за плечо. Завязал по туже веревку, служившую ему поясом.
— Нет, барин, свободным привезут, но от этой свободы вам будет мало прока. Впрочем, и арестантский хлеб вам вкусить придётся. Порой жизнь будет немила. Но ты будешь жить, пока Бога не прославишь, которого сейчас сторонишься. Прощевайте! – Ефим слегка поклонился, придерживая рукой картуз. Резко развернулся, и зашагал, прихрамывая на левую ногу.
Поднялся сильный ветер. Человек в плаще поёжился, толи от ветра, толи от слов каторжника. К барину подошёл одетый щёголем молодой человек.
— Ах вот вы где, — обратился он к одиноко сидящему на скамейке человеку, протиравшему платочком пенсне.
— А я, знаете, вручил генерал – губернатору свою жалобу. Вот! Скоро кое-кому не поздоровится. Они ещё попляшут у меня. А о чём вы так мило беседовали с этим бродягой, Иваном Ветровым? Раз сказался бродягой, не помнящим родства, значит, скрывает более тяжкое преступление. Я — то их знаю!
Человек в чёрном, кожаном, тяжёлом на вид плаще ни чего не ответил. Они пошли по пустой, уже заплёванной площади. «Видать генерал не привёз долгожданный манифест, всё равно плевать не хорошо – источник чахотки» — подумалось ему. Молодой человек взял своего собеседника под локоток, и сказал: Странный этот Иван Ветров. Имя конечно вымышленное, настоящее скрывает. Пророк местный. Он как-то сбежал зимой, зимой, как правило, не бегут. А этот подался в тайгу. Три недели бегал, отморозил пальцы на ногах. Вернулся, а где был, не говорит. С тех пор и пророчествует. Он, например, говорит, что монархический род в России прекратится. Самодержца, и всю его семью убьют разбойники. Это же надо такое выдумать! Что, царь – батюшка по лесу ходит, грибы собирает? А кругом разбойники с топорами? Да ещё со всей семьёй, без жандармов! Только на основании этой бредни, можно догадаться, что он лгун. Его за такое пророчество хотели высечь, да врач не разрешил. Много на острове докторов жалостливых. Мешают процессу исправления этого сброда. А знаете, как он себе представляет кончину этого мира? Да, у него и такое предсказание есть! Утверждает что солнце, являясь огненным шаром, в один прекрасный день взорвётся, как пушечное ядро! Земля, и другие планеты сгорят. Нет, вы только послушайте, как пушечное ядро! Ну не каналья? А? Так о чём вы с ним беседовали?
— Это личное, я бы сказал сугубо личное, — и человек в пенсне улыбнулся чему то своему.
— Ну как хотите сударь, — согласился молодой человек, — а хотите, я вам свои стихи почитаю? – и, не ожидая ответа, подняв руку, стал декламировать: Скажи – ка, доктор, ведь недаром…
Александровский свежий воздух способствует творчеству земляков. Большинство из них жутко стесняются своих произведений. Но как автору без обратной связи? Почему то дебютанты стали часто ко мне обращаться. Уж и не знаю, какие литературные задатки они разглядели в публикациях краеведа. Но в силу своей новой специальности, да ещё в год литературы, я пытаюсь им помочь некоторыми советами. Для меня уже чудо, что рабочий котельной находит время не только глубоко вникать в наследие великих классиков, но и сам пытается писать по мотивам их произведений. В Чеховские дни я предлагаю, отобранный для сайта рассказ. В целом же судить землякам. Автор очень надеется на их справедливую оценку своего творчества. Итак, знакомьтесь БОРИСОВ Виктор, 46 лет, рабочий ООО «Теплосеть», друг центральной библиотеки им. М.С,Мицуля г. Александровск-Сахалинский:
Между двухэтажным домом начальника острова и церковью, неправильным овалом расположилась небольшая площадь. Тщательно выметенная по случаю торжества. Под аркой, сделанной из ветвей деревьев, и украшенной цветами стояли чиновники из местной администрации. На их фоне медным самоваром выделялась грудь в орденах и медалях. Золотые погоны ослепительно поблёскивали на солнце. Генерал тяжёлым взглядом обводил окружающих. Его раздвоенная борода шевелилась при малейшем дуновении ветра, отчего присутствующим казалось, что генерал сердится. Медальки весело позвякивали от каждого движения своего хозяина. Поднявшийся с моря холодный ветер далеко разносил мелодичный перезвон.
-Господа,- обратился к собравшимся один из чиновников сделав шаг в перед, и театрально подняв руку. Испугавшись, мысли, что он может загородить собой гостя, попятился назад.
— Господа, сегодня в этот радостный для нас день девятнадцатого июля одна тысяча восемьсот девяностого года от рождества Христова. На этот рубеж Российской Империи, на эту исконно православную землю остров Сахалин. Прибыл многоуважаемый всеми нами приамурский генерал – губернатор Андрей Николаевич Корф.
Публика что полукругом обступила зеленую триумфальную арку, зашумела. В первых рядах раздались жидкие аплодисменты. Первые ряды состояли из чинов что еще не дослужились до того чтобы стоять сегодня под аркой. За ними теснились господа в поношенных сюртуках и мундирах. Дамы, по причине противного ветра завязали ленточки под вторыми подбородками. Дальше шла небольшая группа людей из местных крестьян, чья судьба здесь сложилась не так уж и дурно. Вся остальная масса была серого цвета. Цвета арестантских халатов и курток, которые здесь упрямо называют бушлатами. Позади всех стояли два человека в лохмотьях, что остались от этих самых халатах. Только желтые ромбы на их спинах ничуть не пострадали, и выглядели как новые.
-Сказали, всех высекут, кто генеральского «Бобра» разгружал, — сказал один из них другому.
-Это, по какому такому случаю? – вяло отозвался его товарищ.
— По случаю кражи, что случилась на генеральском пароходе, вот!
— Много украли? – все так же безразлично спросил второй.
— Много не много, но двух гусей увели. Его благородие сказали, что с вора шкуру спустят, и в кандальную закроют, года на три, — его раздражало спокойствие товарища.
-Это почему сразу на три? За два тощих, полудохлых гуся на три года? Да с них даже навару не было, – возмутился каторжник. Он не успел получить ответ. Впереди стоящие обернувшись к ним, пригрозили побить болтунов, если те не заткнутся. – Может, манифест, какой привез, а вы горланите здесь, — пояснил один из них. – Ага, для тебя дурень специально, — огрызнулся один из двоих, но, не желая испытывать судьбу замолчал. Они стали прислушиваться, о чем говорят там далеко впереди. Но резкий, порывистый ветер доносил до них лишь отдельные слова. Зажиточный крестьянин преподнёс генерал – губернатору хлеб-соль.
— О! Я его знаю, — закричал один из каторжан. – Он у нас майданщиком был. Вся тюрьма у него в долгах ходила. На поселение вышел с большими деньжищами, мироед. Кому тюрьма, кому мать родная…
К каторжанам тихо подошёл человек в черном, кожаном, на вид тяжёлом плаще. Сложенный зонтик вместо трости. Бородка клинышком делала его худое лицо ещё более вытянутым. При порывах ветра он придерживал шляпу. Было очень плохо слышно о чём говорят под зелёной аркой, а из-за серой массы спин видно и того меньше. От скуки человек в плаще стал разглядывать жёлтые ромбы, пришитые к серому сукну чёрными нитками, широкими стяжками. Задумавшись, он машинально трогал рукой бородку, как бы проверяя на месте ли она. Он вдруг сильно закашлялся, достал белый носовой платок. Каторжанин что призывал к тишине недовольно, через плечо сказал: — Цыц! Но увидев, кто стоит позади него снял шапку.
— Здравия желаю ваше высокоблагородие, извините, не признал.
Услышав такое приветствие, серая масса одновременно повернулась, обнажив головы.
— Барин, проходите вперёд, — предложил арестант, каторжане стали расступаться. Барин прокашлялся, осмотрел платок, махнул рукой, чтобы на него не обращали внимание. Он уже собирался уходить, когда почувствовал что его кто — то осторожно дёргает за рукав. Ветер моментально стих, будто где-то опустили занавес, закончился первый акт.
— Извините барин, я вас зову, зову… Вашескородие, будьте так милостивы, не откажите в просьбе.
Перед барином стоял каторжник в старом, заношенном до дыр арестантском халате. Его давно не чёсаная борода старой паклей торчала строго горизонтально. Кроткие глаза старой, больной собаки не моргали, лишь слегка прищуривались. Правое плечо немного выше левого. В руках он держал фуражку без козырька.
— Что тебе? – спросил барин, едва не добавив, служивый, но вовремя спохватился.
— Мне бы барин прошение написать…
-Прошение? Хорошо. Знаешь, где я остановился? Приходи, напишем твоё прошение.
— Покорнейше благодарю, барин, но зачем куда-то идтить? У меня всё с собой есть, — он снял с плеча котомку, всё из того же серого сукна, и похлопал по ней. – И чернила, и перо, бумага. Всё чин – чином.
— Ну, если всё с собой… — неохотно согласился барин. Он за цепочку достал из кармана жилетки часы. Они расположились недалеко от площади, на скамейки в тени большого, старого тополя. Вдоль улицы лежал новый деревянный тротуар. И если бы не старый тополь, он был бы прямой как струна. Топор пощадил дерево, и тротуар зигзагом обогнул его. Человек в кожаном плаще водрузил на нос пенсне, и задумался, разглядывая поданное ему засаленное перо. С той самой минуты, как с парохода «Байкал» он увидел угрюмые берега Сахалина. Странное, гнетущие чувство не покидало его. Сначала он объяснял это себе утомительной дорогой, скверной пищей в подозрительных трактирах, усталостью… Первая же ночь на острове оказалась бессонной. Ему всё казалось каким – то обречённым, тяжёлым… То вдруг лучом света в темноте мелькала мысль что всё будет хорошо и… И опять это ноющие предчувствие чего – то неизбежного, странного. Было чувство, что он уже был здесь, или будет ещё?
— Как тебя звать братец? – спросил он у каторжанина.
— Ефимка – косой, кличут меня. Да куда же она сугубо провалилась? – Ефим шарил впотьмах своей бездонной сумы.
— Ефим, ты что потерял?
— Да, я, барин чернилу ищу.
Отчаявшись отыскать чернила, Ефим принялся вытаскивать на свет Божий всё! В мешке оказались: ржавые гвозди, аккуратно перевязанные верёвочкой, горсть цветных морских камушков, ракушка. Почесавшись и вздохнув, он достал без начала и конца Псалтырь, старую подкову, корень такого растения как борец. И другие нужные в хозяйстве вещи.
— А борец тебе Ефим зачем?
— Это барин, лекарство от жизни, сугубо, когда ты уже не борец, то на это есть борец! А вот и чернилу нашёл, — он достал пузырёк из-под микстуры. Бумага оказалась самая что ни есть дешёвая, и от неё почему – то несло дёгтям.
— Ну-с, на чьё имя писать? – барин разгладил на колене бумагу. Пишите барин сугубо на самого начальника округа!
— От кого? Как твоя фамилия Ефим?
— Пишите, от поселенца Ваньки Ветрова.
Барин отложил перо…
— Постой, тебя же Ефимом звать!
Ванька Ветров, он же Ефимка – косой, сидевший на краю скамеечке, потупил взор, уставившись в землю перед собой.
— Здесь меня знают сугубо как Ветрова. Так что пишите барин, не сумлевайтесь.
Барину что-то расхотелось писать прошение от Ефима, который Иван. Или наоборот?
— А что Ефим, неужели грамоте не обучен? Вон, смотрю Псалтырь у тебя…
-Ну почему же, читать – читаю, по печатному. Да и пишу, сугубо по печати. Но разве я напишу так складно как вы? Да и барин барина лучше поймёт. А Псалтырь, так, на цигарки.
— Ну, хорошо, — согласился барин, — что будем просить в сём документе?
— Напиши барин, чтоб мне бабу выдали.
— Что тебе выдали? – барин снял пенсне, как будто оно мешало ему расслышать.
-Бабу говорю, для дома, для хозяйства.
Барин присмотрелся к Ефиму. Мужик лет пятидесяти. Лицо, испещрённое оспой, занятная борода. Маленькие глазки, такой разрез глаз ещё называют — свинячим. И постоянно чешется в самых немыслимых местах. Барин щепотью правой руки стал массировать переносицу, где остались две отметины от пенсне. Пенсне, маятником раскачивалось на тонкой тесёмке.
— А что, вашескородие, германцы хороший народ? – спросил Ефим, будто они только о том и говорили.
— Хороший, хороший, тебе-то за чем?
— Да так, — пожал плечами Ефим, — и доктора у них хорошие?
— Да Ефим, или как там тебя звать – величать. Лучшие в Европе.
— Ну, ну, ага лучшие значит? Ну, ну, — Ефим почесался в неприличном месте.
– Послушай Ефим, давай попросим корову? А? А хочешь лошадь?
— Да помилуйте барин, на что мне корова? За ней же ходить надо! А зарежет ее, какой беглый варнак? Да и за неё платить в казну надоть. И лошадь мне сугубо на кой? Если у меня баба будет?
— Послушай Ефим, ты говоришь, у тебя дом есть?
— Ну, — промычал Ефим, не понимая, куда клонит этот странный барин.
— Значит и земля есть?
— Есть, — согласился Ефим, часто заморгав глазами.
— Значит лошадь важнее! Правильно? Землю, матушку пахать. А?
Ефим стал про себя удивляться, какой нынче барин пошёл бестолковый!
-Я, вам барин вот что скажу. Я третий год на поселении сижу, и ещё три осталось. Потом крестьянство получу, и в Россию махну. А в огороде у меня целина, и конь не валялся. Так как я сугубо отродясь на земле не работал. Хоть я и родился в деревни, но ещё мальцом был отдан в город, в люди.
Барин задумался, ища другие аргументы. Просить бабу, по его мнению, было верх глупости! Ефим, как будто догадался, о чём думает барин, сказал: — Да вы не сумлевайтесь, нам поселенцам бабу положено выдать. Для хозяйства. Это добро казне ни чего не стоит. Казне даже лучше, баба с возу – кобыле легче.
— А почему ты Ефим, представился как Ефимка – косой? Глаза у тебя ровные, – спросил барин, оттягивая время, перед тем как взять перо, на котором уже высохли чернила. Всё его интеллигентное нутро бунтовало от того что придётся писать такую ахинею!
— Я, когда-то барин личником был!
— Кем, кем был? — барин одел на тонкий нос пенсне.
— Личником, — вздохнул Ефим, убедившись, что барин попался не ума палата, – лики святых писал, я можно сказать духовного звания! Вот!
— Да ну? – удивился барин, ещё пристальнее рассматривая своего собеседника.
— А за что на като… На Сахалин попал?
— Жинку свою порешил, путалась она, с соседом застал… Пошёл по Руси, взяли за бродяжничество. Представился Иваном, не помнящим родства. Сибирь. Бежал. Был бит. Сахалин, — Ефим сплюнул на песок под ногами.
— Ну, хорошо, лики писал, но почему косой?
Ефим совсем разочаровался в глупом барине, и вместо ответа спросил: — А что устрицы, правда, скусные?
— Устрицы? Да, как тебе Ефим сказать? Считаются вкусными, но мне они знаешь, не нравятся.
— Ещё бы, — согласился каторжник, и как – то странно посмотрел на барина.
Барину вдруг стало не хорошо. То самое дурное предчувствие, предчувствие неизбежной беды которое нахлынуло на него, когда он увидел берега Сахалина с парохода «Байкал», вернулось к нему.
— Ну, что ж, бабу так бабу, — и барин решительно взял перо. – Но у меня к тебе Ефим будет одна просьба.
Ефим не зная, что ожидать от странного барина, весь напрягся.
— Ты никогда, никому, не скажешь, что сей документ, писал я.
Поселенец облегчённо выдохнул. Барин стал медленно, тщательно подбирая слова писать.
-Послушай Ефим, — барин остановил письмо,- а почему Татарский пролив так называется?
Каторжник зачесался, отчаянно сплюнул. «Да, с барином не свезло! Надо было всё-таки к бывшему надзирателю идтить!»
— Татарский, вашескородие, значит – злой, чужой. Это каждый гиляк знает!
— Скажите на милость, как интересно, — барин задумался, размышляя, что бы ещё такого добавить в этом идиотском прошении. Он давно его написал.Но зная по опыту, что такие люди как Ефим, любят, чтобы челобитные были подлинней, помудрёнее, поцветастей. А у него фантазии хватило ровно на две строки. Это явное неуважение к такой персоне как Ефимка – косой, он же Ванька Ветров. Не решаясь отдать Ефиму столь куцее творение, барин спросил его: — А что давно носишь бубновый туз?
— Давненько, — неохотно ответил поселенец, — терпигорцы мы, всю Сибирь сугубо пешком прошли. Не то, что одесские галетники, туристы. Им сначала рай показали, скрось решётку парохода, потом горе посреди моря. А мы рай только там и увидим. Если сподобимся, — он посмотрел на небо. – Нам бы только до смерти до жить. И снесут наши бренные тела на Рачковую заимку.
— А другую бабу, Ефим не порешишь?
— Нет, барин, я уже не тот. Горячности нет, остудил мой пыл Сахалин. Здесь даже горячие горцы остывают. Да, и в Россию мечтаю вернуться.
Барину решительно ни чего больше не приходило на ум. Что ещё можно добавить к тем двум строкам, что он уже написал? Он перечитывал их, и ему как Ефиму хотелось плюнуть на песок.
— А что Ефим насекомых не выведешь?
Каторжник на минуту перестал чесаться.
— Нам, барин, вошь по табелю положена. Что за каторга без неё? Праздник души, да и только.
— Скажи Ефимушка, здесь крыжовник растёт?
— Да что вы барин, окромя картошки здесь не родит ни чего. Земля – то проклята!
Ефим почесал прутиком между лопаток.
— Это, каким же образом проклята?
— Как каким? Самым обыкновенным, сугубо словесным. А вы думаете, мы благословляем остров, когда по трапу спускаемся на него? Под матюги солдат, когда тебя прикладом по спине. Благословляем? Когда не можем вытащить бревно из тайги? Благословляем? Когда за не выполненный урок растянут на «кобылки».
— Да, а я слышал, здесь арбузы в оранжереях выращивают, — неуверенно тихо сказал барин.
— Арбузы? В оранжереях – то? Может и выращивают. Если их нашей кровиночкой поливать, то оно конечно, и вананасы вырастут. Почему бы и нет.
Колокола на церквушке зазвонили на всенощную, значит уже шесть часов. Каторжанин снял свой бесформенный головной убор. Поднял руку ко лбу… Но почему-то передумал, осенить себя крестным знамением. Но, раз уж всё равно поднял руку, то заодно отогнал назойливую муху, и одел фуражку. Барин заметил порыв поселенца.
— А много ли Ефим на Сахалине церквей?
— Да, почитай много, — он почесал себя ниже поясницы.
— Наверно набожный народ?
— Да куды там,- махнул рукой Ефим, — на Сахалине только сектанты, да политические живут духом, а все остальные брюхом. Помню, шли мы по Сибири, так, поди, на каждом привале молитву творили. Да и в дороге псалмы пели… А чем ближе к Сахалину, то тем меньше и меньше на небо смотришь. А смотришь, как бы товарищ твой не украл у тебя чего. А на острове и подавно, чувство такое что Бог от нас отказался. Да, я думаю барин, вы и сами к попам не ходок? В детстве охоту отбили, а?
Над ними низко пролетела чайка. Море совсем рядом. Человек в чёрном кожаном плаще проводил её взглядом. Каторжник остался равнодушен. Ефим продолжил свою мысль: — Здесь тяжело ухо к слову Божьему. Не приживается оно тут. Может жизнь здесь слишком трудная, может климат не подходящий. А может время, ещё не пришло… Я ещё в кандальной был, на Пасху, пришёл к нам в тюрьму батюшка. Живот в два обхвата, рожа лоснится как блин на масленицу. Глазки осоловелые, видать уже хорошо причастился с утра. И спрашивает нас, «что это у вас здесь такая вонь?» А мы третьего дня как из леса вышли. На нас сухой нитки нет. Спим одетые, чтобы такой же православный не стащил у тебя последнюю рубаху. От нас пар валит, а сохнуть, не сохнет ни чего. Мы попу и говорим, мол, батюшка, заступись за нас, порют, спасу нет. А он нам и говорит, «телесные наказание облегчают душу». Ну, мы его и послали, недалеко…Стех пор он свой синий нос в кандальную не показывал. Вот, вы барин сразу видать, шибко грамоте обучены. Объясните мне, почему татары здесь держатся в месте, обреки да оглы всякие друг за дружку стоят. И не тащат друг у друга! А у нас один православный задушил своего единоверца за шестнадцать копеек. Задушил на его же верёвочке от нательного крестика. Неужели мухамедская вера лучше? Здесь на каторге – кобылке, вы не кого не найдёте кто считал бы себя виновным. О своих зарезанных, зарубленных душах рассказывают смеясь. Сожалеют только о том, что попались, что дельце не удалось провернуть.Что напились не вовремя. Чиновники здешние, только и думают на чём ещё деньгу зашибить. Они даже себе домов не строят, живут в казённых. А зачем? Всё одно все здесь временно. А вы барин, извиняюсь, за каким ведомством числитесь, по какому табелю проходите?
— Я, Ефим, сам по себе.
Лицо поселенца выразило глубокое разочарование, почти скорбь. – Это барин нехорошо, это вашескородие совсем нехорошо! Только бродяги нигде не состоят, а все остальные числятся по какому – то ведомству.
Ефим задумался, перестав чесаться. Барин догадался, что сильно пал в глазах поселенца. Ефим стал молча складывать разложенные на скамейки вещи в мешок. Укладывал основательно, не торопясь. Когда очередь дошла до порванного Псалтыря, человек в плаще внимательно следивший за поселенцам спросил: — До чего ты Ефимушка духовную книгу довёл? Божий лик писал, а Псалтырь на цигарки.
Когда речь заходила о святом, Ефим начинал чесаться ещё больше, в самых сокровенных местах.
— Оказалось барин, что я лубочные картинки рисовал. Бог, есть – Дух. Его невозможно нарисовать. Если написано – десница, перст, рамена Его, то это всё только образы, иносказание, для нас глупых. Когда-то я по три дня постился, с женой не спал, чтобы богородицу написать. А оказалось всё это картинки для ярмарки. Это уже здесь мне сектанты объяснили. Да, и Сам Бог запрещает образы творить. А образ как будет по-гречески? Икона! – сам себе ответил Ефим. – А Псалтырь, что Псалтырь, комары вечерами житья не дают. Пока куришь, ещё ничего, перестанешь, заедят! Только Божьим словом и спасаемся.
Барин понял, сколько время не тяни, всё же придётся отдать шедевр русской письменности его хозяину. Прокашлявшись в свой белый платок, он сказал: — Знаешь Ефим, мне много чего довелось написать. Но ничего более как бы это сказать странного, мне писать не доводилось. Поэтому я надеюсь, наш уговор останется в силе. И никто не узнает, что сей манускрипт, писал я.
И с этими словами он протянул бумагу поселенцу. Ефим уставился в бумагу. Две строчки написанные мелким, красивым почерком, ввели его в ступор. Две строчки! За всё это время! Две! Он молча смотрел на них, и казалось, он сейчас заплачет. Борода его мелко затряслась, и казалась ещё длиннее.
— И это всё? – выдохнул Ефим. Барин только молча развёл руками. Каторжник спрятал бумагу в мешок, и полез за пазуху. «Уж, не за ножом ли?» Подумал барин. Почему — то вспомнилось как Ефим, подавляя зевоту, сообщил ему, что он «порешил» свою жену. Поселенец, откуда – то из подмышки достал уменьшенную копию своего заплечного мешка. Всё из того же серого сукна. Развязав его, высыпал на грязную ладонь медные монеты.
— Вот, барин, это вам за труд. Хоть написали вы не густо, однако, время на меня сугубо, потратили не мало. Как написано, трудящийся достоин награды своей.
Барин застегнул плащ на все пуговицы, стало холодать. Посмотрел сквозь пенсне на протянутые монеты. Потёртые, поцарапанные, гнутые медяки.
— Вот бы все так быстро отдавали гонорар. Не нужно мне твоих денег Ефим. Оставь себе, тебе они нужнее.
— Ну, барин, как хотите, воля ваша, — он обиженно ссыпал монеты в мешочек, — я вам вот что скажу, живёте вы больно легко. Знаю, не барская судьба лишения терпеть. Идёте, по жизни скользя. Все барины живут, не видя страданий людских, но вы то видите! Но идёте по жизни прохожим, наблюдателем, но не борцом. Даже семьёй не хотите себя обременять. Добрый вы барин, но доброта ваша какая – то беззубая, безрукая… В этот раз вы добровольно приехали на Сахалин. Приехали хандру развеять. В следующий раз привезут на Сахалин, вас не спрашивая. И хлебнёте вы горя мерой утрясённою, угнетённою.
Барин снял пенсне, на переносице остались две отметины от душки.
— Это что же, Ефим, меня как каторжника привезут? С бубновым тузом на спине?
Ефим забросил мешок за плечо. Завязал по туже веревку, служившую ему поясом.
— Нет, барин, свободным привезут, но от этой свободы вам будет мало прока. Впрочем, и арестантский хлеб вам вкусить придётся. Порой жизнь будет немила. Но ты будешь жить, пока Бога не прославишь, которого сейчас сторонишься. Прощевайте! – Ефим слегка поклонился, придерживая рукой картуз. Резко развернулся, и зашагал, прихрамывая на левую ногу.
Поднялся сильный ветер. Человек в плаще поёжился, толи от ветра, толи от слов каторжника. К барину подошёл одетый щёголем молодой человек.
— Ах вот вы где, — обратился он к одиноко сидящему на скамейке человеку, протиравшему платочком пенсне.
— А я, знаете, вручил генерал – губернатору свою жалобу. Вот! Скоро кое-кому не поздоровится. Они ещё попляшут у меня. А о чём вы так мило беседовали с этим бродягой, Иваном Ветровым? Раз сказался бродягой, не помнящим родства, значит, скрывает более тяжкое преступление. Я — то их знаю!
Человек в чёрном, кожаном, тяжёлом на вид плаще ни чего не ответил. Они пошли по пустой, уже заплёванной площади. «Видать генерал не привёз долгожданный манифест, всё равно плевать не хорошо – источник чахотки» — подумалось ему. Молодой человек взял своего собеседника под локоток, и сказал: Странный этот Иван Ветров. Имя конечно вымышленное, настоящее скрывает. Пророк местный. Он как-то сбежал зимой, зимой, как правило, не бегут. А этот подался в тайгу. Три недели бегал, отморозил пальцы на ногах. Вернулся, а где был, не говорит. С тех пор и пророчествует. Он, например, говорит, что монархический род в России прекратится. Самодержца, и всю его семью убьют разбойники. Это же надо такое выдумать! Что, царь – батюшка по лесу ходит, грибы собирает? А кругом разбойники с топорами? Да ещё со всей семьёй, без жандармов! Только на основании этой бредни, можно догадаться, что он лгун. Его за такое пророчество хотели высечь, да врач не разрешил. Много на острове докторов жалостливых. Мешают процессу исправления этого сброда. А знаете, как он себе представляет кончину этого мира? Да, у него и такое предсказание есть! Утверждает что солнце, являясь огненным шаром, в один прекрасный день взорвётся, как пушечное ядро! Земля, и другие планеты сгорят. Нет, вы только послушайте, как пушечное ядро! Ну не каналья? А? Так о чём вы с ним беседовали?
— Это личное, я бы сказал сугубо личное, — и человек в пенсне улыбнулся чему то своему.
— Ну как хотите сударь, — согласился молодой человек, — а хотите, я вам свои стихи почитаю? – и, не ожидая ответа, подняв руку, стал декламировать: Скажи – ка, доктор, ведь недаром…
Борисов Виктор. 27.04.2014